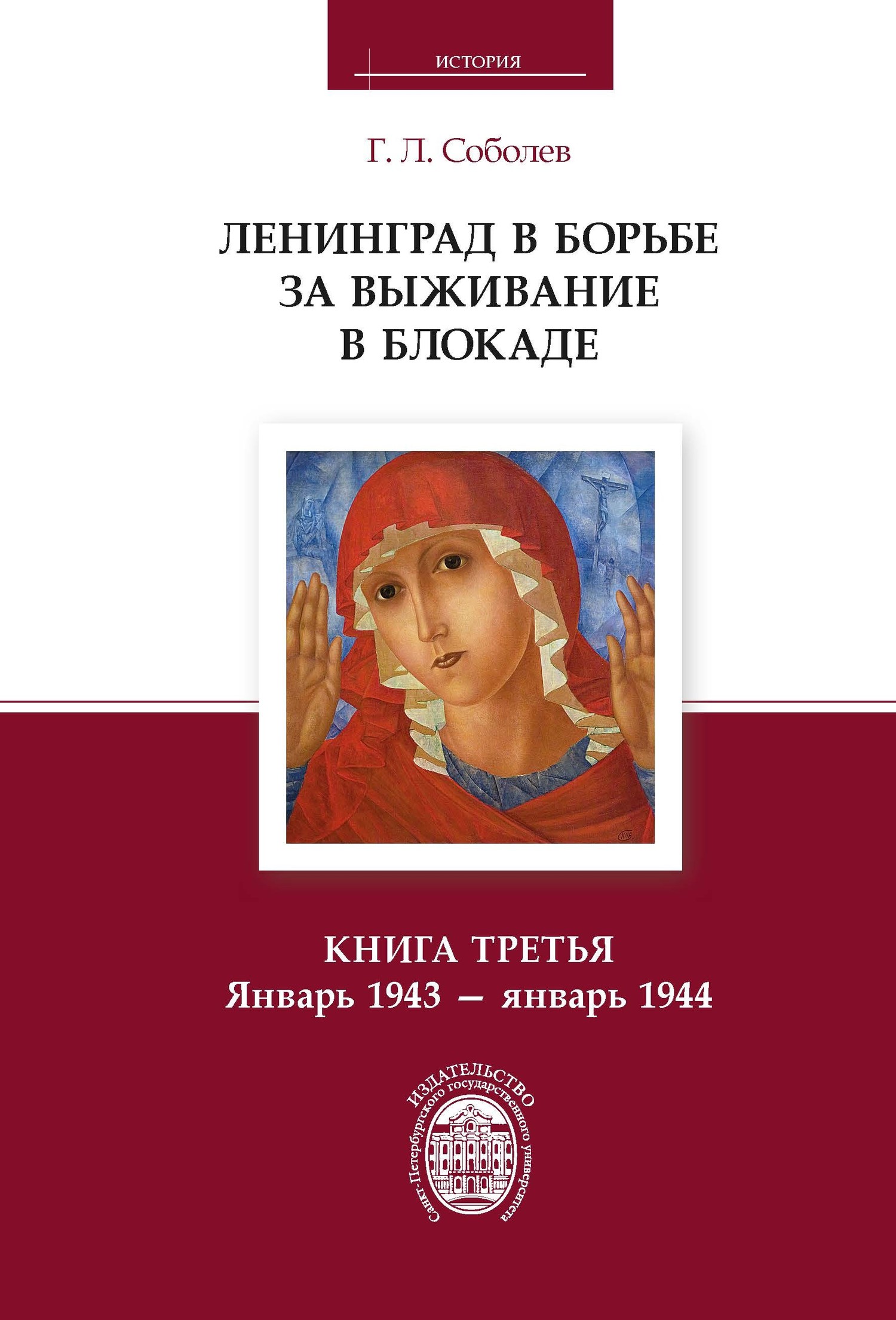Шрифт:
Закладка:
— А теперь будь мужчиной. И помолись, если есть кому молиться.
Доктор ошалело мотнул головой. Как я понял, это значило, что молиться он не станет.
Не торопясь, привычным движением я просунул руку за пазуху. Рукоять была теплой — согрелась на груди. Этот трофейный ствол как следует смазан и надежно заряжен. Осечек с ним не бывало — это я помнил и тогда, через четверть века после моих ночных вылазок.
Я смотрел на него в упор, дожидаясь, чтобы поднял взгляд, когда с крыльца сошел маленький сын доктора. У сына были огромные удивленные светлые глаза. Он был совсем крохой и пролепетал мне что-то радостное и доверчивое. Наверно, поздоровался, но разобрать непривычным ухом у меня не получилось.
Я вынул руку и поднялся. А доктор все сидел с опущенной головой.
— Береги его, как он сегодня сберег тебя, — сказал на прощание. И тогда, услышав это, он весь задрожал.
Позже я видел доктора всего раз. На вокзале. Он суетился, подавая чемоданы в вагон. Поезд отходил через несколько минут. Я сделал шаг из-под навеса и остановился на светлом месте, пристально глядя. И люди, даже те, кто очень спешил, молча обходили меня. Тогда я разглядел, что на виске у доктора выступила седина. Он все копался во внутренних карманах, а потом сразу полез по ступенькам в вагон. Так и не поднял голову. И глаз не показал. Может даже, я ошибся, и в тот раз это был вовсе не доктор.
А через несколько лет дочери стали разъезжаться. Еще чуть позже, повыдавав их всех замуж, во сне умерла моя жена. Я был еще крепок и женился снова, но и она, моя Сима, опередила меня.
— А дочь Айтолу?
— Однажды она попала в крушение на море. Ее тела так и не нашли. От нее растут чудесные внуки. Они у меня редко здесь бывают, но недавно зять прислал мне их фотографию.
Они вместе помолчали.
— Знаете, — негромко произнес Борис, — мой отец — врач.
— Надеюсь, он хороший врач.
— Да. У него был мудрый учитель. А вы простили того врача за сына?
— Я же никого не тронул.
— А там, в сердце, где болит? Простили?
Самуил задумался, протянул руку и сам разлил им обоим. Поднял стакан и опрокинул залпом.
— Что смотришь, бойдакъ?
— Никогда не видел живого караима…
— А мертвого карая?
— Надеюсь, никогда не увижу, — мотнул головой Борис. — Идете спать?
— Иду. Только соберусь с духом и пойду.
— А что там?
— Знаешь, я стал бояться его — Темного угла. Там, слева от изголовья. Там ничего, совсем ничего. Я раньше не думал, не приглядывался. Но там совсем ничего нет. Ни разу не пробежала по стенке ящерица. Паук не вьет паутину. Кажется, даже мухи туда не садятся. И я таки уже очень старый.
Борис проводил его до кровати. Потом вгляделся, пытаясь определить, где этот самый страшный угол, но так его и не различил. Упал на диван в другой комнате и уже ночью, очнувшись среди короткой кипящей в листве грозы, увидел под потолком в отблеске молнии крюк для колыбели.
И накрылся покрывалом с головой.
Утром Борис проснулся от надсадного кашля из соседней комнаты. Он обулся, накинул рубашку и вошел.
— Мои годы уже не такие легкие, — повернул голову Самуил.
— Если надо, я останусь.
— Нет, сынок, тут теперь нужен не ты. Встреть лучше Майю на переправе, она там работает. С виду такая полная, улыбается глазами и волосы темные закалывает всегда вот так. Это сестра второй моей жены. Сегодня ее смена. Она все устроит, как надо.
— Тогда прощайте, Самуил!
— Иди, огълан[21].
. — И уже в спину Борису донеслось: — Я простил его!
Шторм почти улегся. Вдалеке к югу мерещились в дымке контуры исполинского судна. Борису мельком припомнился вчерашний маневр в порту.
Он вошел в зал и, еще не достав паспорт, приметил и узнал ее. Обратился:
— Вы — Майя.
Она кивнула.
— Передали просьбу для вас. Когда освободитесь сегодня, то зайдите… — он запнулся и махнул рукой назад в утренний сумрак.
Майя сама назвала улицу и дом.
— Точно. Туда.
— Я обязательно зайду вечером.
Он прошел досмотр быстро, без лишних вопросов.
С парома смотрел на уходящий крымский берег и думал сразу об отце, и об этом неизвестном ему раньше народе, и о странном человеке, который вдруг отчетливо выступил из тумана младенческой памяти, и о таком нескончаемом горестном дне, к исходу которого нельзя не прийти вслед за своей раненой душой в единственном кипящем и выжигающем стремлении, в своем праве и своей ярости, и о том моменте, когда вот так невозможно становится поднять руку и убить.
Огромный очертившийся корабль уже без груза с протяжным гудком уходил от берега в море.
В это время старик прикрыл глаза. Он давно отвык, что его седая голова может быть такой ясной и легкой, только пульс бьется чаще. Он на быстром и послушном жеребце мчится по степи. Жмурится от солнца, сбавляет шаг. Издалека он видит двух женщин. И сразу понимает, что это жена и старшая дочь с нежным именем. Поворачивает коня к ним. Они узнают его, радостно переглядываются, тянут к нему руки, почти касаются. И вдруг оказываются на кургане в нескольких сотнях метров. Он пришпоривает коня, яростно колотит пятками в его горячие бока и чувствует, что коня под ним уже нет…
…Жгучие капли находят путь сквозь многие морщины. Солнце раскаленным шаром вкатывается в комнату. Так хочется вдохнуть еще раз, но привычно густого солоноватого воздуха тоже нет. Самуилу удается скосить глаза и поглядеть туда, вбок. Страшный вечно темный угол переливается сверкающей на досках смолой. Выше под потолком тонко колышется паутинка.
И застывает в нестерпимом свету.
Марина Йоргенсен
Икрымырим
— Икрымырим, икрымырим, — задумчиво повторяла Светочка подслушанное где-то диковинное слово.
— Мама, а что такое «икрымырим»? — спросила Светочка. Удобно устроившись на скамейке, она с упоением болтала ногами. И еще она ела мороженое-пломбир за двадцать копеек. И вообще, жизнь была прекрасна. День был чудесно-солнечный. К тому же суббота.
— Что-что? — переспросила Светочкина мама.
Светочкина мама тоже ела мороженое. Но ногами она, конечно же, не болтала. В глубине души она была бы и не против. Но в ее возрасте (уже под тридцать, да…) такое легкомыслие могло бы показаться странным кому угодно.
— Икрымырим, мама. Что это такое?
— И Крым, и Рим, — с расстановкой повторила Светочкина мама. Ее звали Елена Александровна. Хотя
![Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме [Сборник] - Андрей Георгиевич Битов](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)